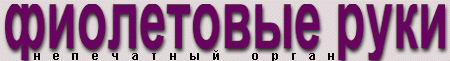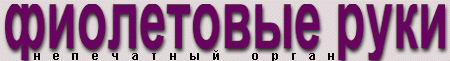Расскажи о себе.
Он молчит, стоит у окна. Граница между светом и тенью, прозрачная холодная поверхность. Ночь, фонари, дом напротив, собаки туда-сюда, шум проезжающих машин. Опершись руками о подоконник, постель распахнута, тепло, смотрит прямо перед собой сквозь свое призрачное отражение. Если на улице, то и в комнате тихо, не тикают часы, не шумит вентилятор, не шуршат обои, ни звука. За спиной на столе компьютер. У отца не было компьютера, были только бесконечные тетради, 96 листов, в клеточку, на пружине, и печатная машинка, которая и сейчас стоит под столом. Папа? Я занят, сынок. Писал, писал, ночью печатал. Рассказы, он их прочел потом, и неоконченная повесть "Все остальные дни" до сих пор непрочитанная. Вся жизнь только ради печатной машинки, когда уже никто не нужен.
Расскажи о себе. Ну что ты молчишь?
Стоит, грустный, у окна...
- Я не грустный, перестань.
Ладно, не грустный. Задумчивый. Оттолкнувшись обеими руками, отклоняется назад, поворачивается, к столу. Из ящика - тетрадь, 96 листов, на пружине, всегда хорошо видно, где листы припухли от чернил, а где они еще не тронуты, последняя запись десять дней назад. Дата, подчеркнуть, рядом время. «Не спится. Как-то по-хорошему тревожно, словно в детстве накануне праздника, жду чего-то, волнуюсь».
И это все, что ты можешь из себя выдавить? За десять дней?
- Ты же знаешь, я могу и два месяца не писать, а потом вдруг прорывает. Раньше боялся, думал, что однажды вот так перестану писать совсем. Когда я два года назад сжег все свои старые записи, писалось лучше всего. Каждый день несколько страниц, почти год, потом устал. И весна...
Да, весна. Раньше каждый апрель приносил с собой усталость, злость и нервы, хотелось забиться в угол, уснуть на месяц, все мысли вели в тупик. Пока однажды он не сложил в груду все свои бумаги, десять сборников стихов, начиная с того первого стихотворения, которое он написал в 16 лет, потому что утром вместо "доброе утро" - "вставай, в стране военный переворот", и целый день по телевизору "Лебединое озеро", баррикады, штурм, трое погибших; так вот, стихи, и дневники, и первые рассказы, все было сложено в кучу и сожжено, медленно, страница за страницей, не аутодафе, а обычный костер. Потом - никаких депрессий.
Стихи были и раньше, и в пять лет, и в школе, в маленьком карманном блокноте в кожаном переплете, который однажды попался на глаза одноклассникам, неловкость и неожиданное одобрение, никаких насмешек, разве что незло, просто в силу привычки. Тогда нет, но в остальные дни сколько их было – драк, бесконечных пинков, слез, друзей, которые завоевывались с таким трудом и так легко терялись. Во все остальные дни.
Он открывает ящик стола, не своего письменного, а стоящего рядом, один из тех двух ящиков, к которым не прикасался уже много лет. Кучи копировальной бумаги, а под ней вдруг тетради, листки, альбомы, все исписано, французский язык, нетвердая детская рука. Перевод «Джеймса Бонда против доктора Ноу» с французского, его первый литературный опыт, по непонятным причинам избежавший огня, Джон Странгвейс и Мэри Траблуд, которые не ответили ни на голубой, ни на красный сигналы. Он просматривает тетради, французский, еще французский, почерк стал ровнее, потом, понемногу, английский, неожиданно – стихи на обороте: «Я так хотел, любимая / К мелодии ночной / Добавить стройный стих / Из слов и чувств живых»…
- Это песенка Брэля, очень красивая, если ты помнишь… «J’aurais aime, ma belle, t’ecrire une chanson sur cette melodie rencontre une nuit”…
Потом еще пара блокнотов, пустых, но памятных. Первый из них запечатлел его первую попытку вести дневник в десятилетнем возрасте, второй хранил пару написанных тогда же стихотворений. Эти страницы тоже в свое время были вырваны и уничтожены.
В самом низу отыскивается фотография, Бог знает как здесь очутившаяся – пухлый мальчик в шортах и в клетчатой рубашке с коротким рукавом, ворот расстегнут, левая рука вытянута по шву, то есть прижата ладонью к телу, Два пальца правой, полусогнутой в локте, сжимают лютик, круглые очки в коричневой оправе, канадка, рассеянная улыбка. Какое-то время он рассматривает свое фото, потом сваливает в кучу все содержимое ящика и снова запирает его, вероятно, еще лет на десять. Это не то, что он искал.
Рядом – снова кипа копирки, тетрадная обложка, в которую завернуты сложенные вдвое листы рукописей, и две папки. Ту, которая толще, он еще не читал, 441 страница, неокончено.
- По крайней мере, я всегда считал эту отцовскую работу неоконченной. кажется, я видел черновые наброски продолжения, или что-то в этом роде, сейчас трудно вспомнить. И это не роман, а повесть. Неправдоподобная.
Да, но твой-то рассказ должен быть правдоподобным, поэтому вспоминать тебе придется. Расскажи о себе! Что ты чувствовал, глядя на свою фотографию?
- Да отстань ты! Ничего не чувствовал. Я не люблю фотографии, они мне не интересны, мне вообще не доставляет никакого удовольствия копаться в своем, равно как и чужом, прошлом. Оно не вызывает во мне трепета, ностальгии или чего там еще принято. Именно поэтому я могу беззастенчиво использовать прошлое как строительный материал в своей работе.
Тогда расскажи о себе.
- Знаешь, я вдруг вспомнил сон, который видел очень давно, двенадцать лет тому, в тот год, когда время впервые обрело направление, мама еще сказала, что я рано задумываюсь о таких вещах, когда я, наконец, перестал получать тумаки от своих одноклассников, чтобы стать одним из них и надолго оказаться в одиночестве, когда она уже была только воспоминанием.
Лето. Пыльная улица, одним концом у реки, другим – у шоссе, два десятка домов, низ и верх, мальчишки двумя соперничающими стайками, посередине – ее дом, голубая двухэтажная дача всем известного куплетиста. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка». Это ее дедушка. Марине одиннадцать, ему столько же, после долгой зимней разлуки, школы, цветов на первое сентября и на восьмое марта, коротких каникул, снега, оттепелей, драк, оценок, после всего этого он снова стоит перед ее калиткой, и на дворе – лютики, колокольчики, ромашки, он ни разу не был на этом дворе, потому что ее дедушка, и еще много пышных цветов, которым нет названия. В ожидании проходит минут пятнадцать, сначала стоя, потом сидя на противоположной стороне улицы, среди пыльных лопухов и белых одуванчиков, воздушный, легкий, цвета морской волны образ туманит глаза, пока вдруг образ этот не становится видимым и реальным. Марина выходит из дома, идет по лужайке, мимо калитки, вглубь сада и в скрип качелей.
- Так вот, мне снилось то лето, и будто мы снова вместе, а наша улица ведет не к узкой речушке, которая обмелела одновременно с моими представлениями о времени, а к морю, увиденному мной лишь десятью годами позже. Бесконечная полоса песка, мы бежим по ней вдвоем, держась за руки, она спрашивает «ты по-прежнему любишь голубой цвет?», а я отвечаю «да, такой, как цвет твоего платья, твоих глаз и неба, опрокинувшегося в море». До встречи с ней моим любимым был насыщенный синий. Мы бежим, волны на берег, обратно, босые ноги в воде, следы на песке, рука в руке, посреди голубого и зеленого простора, она в голубом купальнике, мне легко, солнце в зените, снова волна лижет босые ноги. Наверное, никогда до и никогда после я не был так счастлив, как в этом сне.